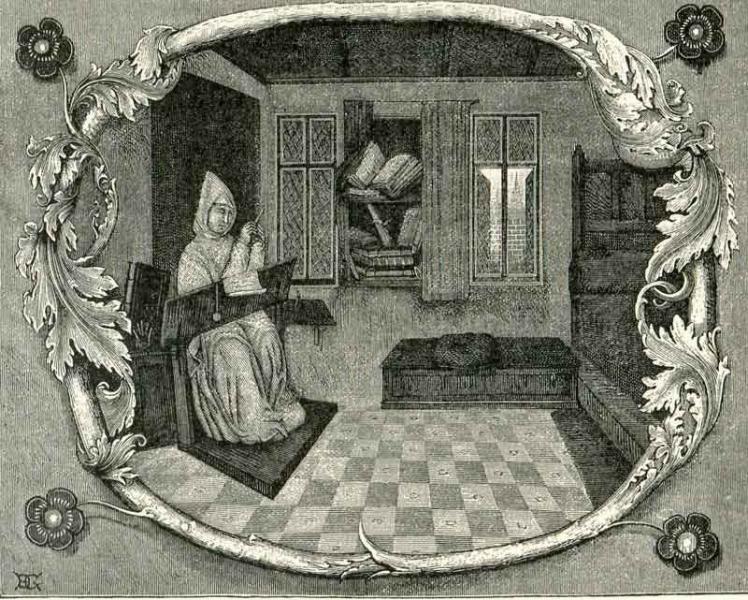
1-2
Но стоит ли вообще так долго останавливаться над тем, в какой среде Тулуз вращался, что он избирал для своих изображений, что он предпочитал другому? Да, его искусство великий соблазн, но не в том смысле, что он вас “приглашает” в какие-то “соблазнительные” места, а в том смысле, что он говорит о вездесущности красоты и о великом даре художника эту красоту отовсюду извлекать. Художники-золотоискатели, но одни чуют и находят золото в одних явлениях, другие в других, одни его извлекают из благородных камней, другие из грязи. Золото же остается золотом. И тяжелые массивные формы какой-либо рембрандтовской купальщицы так же толкуют о красоте, как и античная Венера или “Ио” Корреджо…
Тулуз-Лотрек с особым рвением искал золото там, где, казалось бы, его уже никак не найти. Но и это неправильно сказано, он не шел в эти места, чтобы искать золото (он не был ни в какой степени сентиментальным моралистом и миссионером в мире разврата), а пребывая в этих не приглядных местах, он находил золото, как он бы его нашел все равно, где, лишь бы его не душила и не мертвила скука.
Больше же всего душила его скука в той монденной1 светской среде, к которой он принадлежал.
По рассказам близко знавших его лиц (его ближайший друг Максим Детома стал впоследствии моим другом), Тулуз-Лотрек был сама “уютность”. Уют — слово, неизвестное французскому языку, и начало, вообще не совсем близкое латинскому мироощущению, но все же оно проявляется и во французских нравах, правда, сравнительно редко и иногда в очень причудливых парадоксальных формах.
Можно утверждать, что Лотрека влекло в какие-нибудь танцевальные залы, в кабаре, а то и еще менее приличные места, не желание разгула, безобразия, не потребность валяться в грязи, но именно искание уюта. Уют этот был своеобразен и странен. Общество было очень непристойное. Но Лотрек излучал такое богатство благодушной bonne humeur2, он так умел наслаждаться всем тем, что он видел, что он заражал всех одним своим наслаждением и вокруг него, где бы он ни был, устанавливалась какая-то “зона блаженного цепенения”.
И вот почему также его творение стало “историческим”. Лотрек не просто передавал то, что видел его глаз, а он фиксировал свои зрительные (именно зрительные, а вовсе не какие-либо другие) наслаждения. В его искусстве эта милая эпоха (для нас, еще заставших ее, — эту столь простодушную, столь разнообразную, столь до всего любопытную эпоху, — она особенно теперь мила по воспоминаниям) не только изображена с гениальной меткостью, с гениальной синтетичностью, но она исполнена совершенно особого настроения.
И в этом, если хотите, преимущество Лотрека перед его настоящим учителем (Кормон и Бонна помогли ему усвоить лишь некоторые технические начала) — перед Дега. Я не стану умалять искусство великого и тончайшего художника, но сколько раз все же, обходя нынешнюю выставку, у меня невольно вырывался возглас — это лучше Дега! Это та же формула, это глаз, обучившийся на “приемах смотреть” Дега, это тот же “такт” в красках, то же изумительное чувство формы, — но это и нечто лучшее, ибо это еще как-то более душисто, более нежно, более гибко и поэтично. Дега — настоящий латинянин. Это чеканщик формы, это виртуоз отношений, но это художник в сущности холодный и расчетливый. Напротив, у Лотрека возбужденность никогда не падает. Все у него выливается с какой-то бурной стремительностью. И благодаря этому в его творчестве нет ни капли скуки, равнодушия, расчета. И особенно интересно выследить эту возбужденность там, где Лотрек как бы обуздывал себя, где он старался быть “sage”3, благоразумным, сдержанным (например, чудесная старушка, играющая на рояле, или отдыхающая балерина в розовом трико, а также десятки портретных этюдов). Стоит вникнуть в это кажущееся спокойствие, чтобы в нем снова увидеть бурлящее, клокочущее возбуждение, чтобы в любом штрихе и в любом мазке, в любой комбинации красок увидеть то же экстатическое начало. У Лотрека сплошные trouvailles.4 Когда же вдохновение покидало его, в самый неожиданный момент вдруг снова “накатывало”, и тогда Лотреком овладевала ярость работы, он прямо приказывал, чтобы ему позировали (случалось, что и при очень странных обстоятельствах), и в лихорадочной поспешности он фиксировал поразившие красоты, отношения, арабески, формы или самую “красоту безобразия”. А если его посещала какая-нибудь “идея” (неизменно живописная) или воспоминание о виденном, то он тут же, на клочке, их и набрасывал. Бывали случаи, что от такого наброска он сразу переходил к дальнейшему, брал картон, холст или литографический камень для окончательного закрепления блеснувшей в воображении “идеи”.
Именно потому, что в Лотреке все основано на чрезвычайно живописном возбуждении (которому послушно служило отлично выдрессированное уменье), очень трудно сказать, что у него доминирует, что у него лучше: краска или рисунок. Нельзя себе представить б?льшую слитность того и другого. Он “рисовал” красками, и он “живописал” карандашом. Иные из его картин и этюдов настоящие поэмы красок, изумительные сплетения порождают в этом архиподлинном “импрессионисте” новые, небывалые в своей лучистости, тона и сообщают его красочным поверхностям особую вибрацию и единственную в своем роде глубину. Но точно так же его гибкий, то взбивающийся, то “собирающийся” штрих обладает в своей монохромности бесконечным множеством тоновых оттенков и весь исполнен жизнью…
Принадлежность к данной эпохе в Тулузе выражается не только чисто внешними признаками, выбором сюжетов, “импрессионистской случайностью выхваченного куска”, костюмами или “гримами” действующих лиц, особенностью обстановки, цветовыми комбинациями, но и своей плоскостностью. Уже японизирующий Дега пренебрегал объемами, лепкой, всем тем, что, забегая вперед перед своим поколением, искал Сезанн, и что затем стало главным и фантастическим исканием у кубистов. Лотрек, подобно Дега, точно так же довольствовался “силуэтами” или, вернее, находит главную прелесть в окрашенных плоскостях, а не в чарах “стереоскопии”. Это его роднит на расстоянии нескольких веков с Питером Брейгелем и это же сделало его настоящим “классиком” афиши, плаката. В афише, служащей тому, чтобы в головокружительной, быстрой смене уличных впечатлений задержать на минутку внимание и внедриться в память, преследование рельефности есть нечто лишнее. Лучше достигают цели удачно брошенный вызов колеров, странность фигур, какой-то иероглифический синтез. Во всем этом Лотрек достиг как раз предельной виртуозности и остался до сих пор, несмотря на десятки лет всевозможных и очень хитрых опытов, непревзойденным. Однако афиша потому под его кистью и его карандашом приобрела значение подлинного и большого художественного произведения, что в нее он вложил не одно только остроумие рекламного зазыва, но и настоящее содержание. Его Аристид Брюан — настоящий монумент монмартрского песенного искусства; его афиша Le Divan Japonais5 (которой я сразу обзавелся, когда приехал в 1896 году в Париж, и которая была единственным, но сколь чудесным украшением стен нашей первой здешней квартиры) — это целая поэма парижской элегантности, не элегантности одной дамской моды, а элегантности всего “парижского жанра”, существующего, вероятно, с самых тех времен, когда строился собор божьей матери, и не умершего даже теперь, несмотря на наводнение Парижа метэками6 и на некоторую растерянность среди его арбитров изящного.
Но можно ли высказать все, что приходит на ум, что волнует сердца, когда обходишь выставку (делающую честь пиетету ее устроителей) Тулуз-Лотрека? А какие симфонии, фуги и каноны тем и темочек давно умолкнувших песен нашей молодости доносятся из созданного им мира! Какие вихри воспоминаний! И воображаю, какая будет радость будущему историку познавать из творчества чудесного мастера (частью хранящегося в городском музее Альби) подлинный аромат времени.
Ах, если бы такие художники были во все времена! Ах, если бы таких художников дало время короля-солнца или итальянский “золотой век”! Но нет, такие художники — большая редкость, и рождаются они преимущественно в такие эпохи, которые имеют репутацию упадочных и в которых как раз до жути обостряется человеческая восприимчивость к окружающей жизни.
1931 г.
1 Суетной (от французского mondain — светский, суетный.).
2 Хорошее настроение (французский).
3 Воздержанным, смирным (французский).
4 Находки (французский).
5 Японский Диван (французский). Название кабачка.
6 Французский meteques — инородный элемент, заимствовано с греческого, где это было названием иностранцев, проживавших в Афинах без прав гражданства и плативших налог.
1-2
 Рыцарь и ландкнехт (Альбрехт Дюрер, около 1500 года) |  Одна из стен Залы Паолины в Замке св. Ангела |  Фрески в соборе S.Maria della Pace (Бальдассаре Перуцци) |